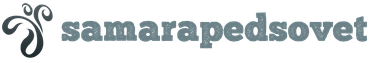В «Книге с уклоном» младенец в коляске буквально катится с горы. Михаил, я же мать, ‒ почему мне тогда так смешно?
Потому что это комедийный ужас. Никто же не думает на самом деле, что детская коляска может своротить пожарный кран и заставить полицейского сделать сальто мортале. Действие в книге стремительно разворачивается по законам эксцентричной немой кинокомедии, то есть, в сущности, по законам балагана. Где тоже все лупят друг друга палкой по голове и отвешивают пинки под зад - и все понимают, что это не мелкое хулиганство, а реприза - потому что и палка бутафорская, и ботинки с клоунскими носами.
Заботливый родитель вам здесь возразит: «А если ребенок не поймет и...» - дальше расцветает пышным цветом родительская тревога. Как быть? Не обращать внимания или объяснять читателям, что да как?
‒ Разговаривать с родителями надо - но только когда видно, что родитель готов к разговору, а не просто жаждет тебя «унасекомить». В частности, вопросами типа «А если ребенок не поймет?!» На такие вопросы у меня один ответ: пожалуйста, пусть «заботливый родитель» и дальше читает своему чаду Барто. Только пусть не удивляется, когда в один непрекрасный день обнаружит, что между ним и его ребенком - пропасть.
- Чем вас как переводчика эта книга зацепила в первую очередь ‒ сюжетом, необычной формой?
Как мы знаем, детская книга - это синтетический продукт. Ее трудно разделить на составляющие.
Я увидел ее впервые в магазине детской книги в итальянском городке Аввелино (это не Милан и не Флоренция, а относительно небольшой южный городок - правда, с двухтысячелетней историей) летом 2012 года и был просто поражен ее несомненной «винтажностью», аутентичной стилистикой ‒ визуальной и словесной ‒ американского арт-деко (того самого «века рэгтайма», воспетого Доктороу в известном романе), и в то же время футуристичностью, которая выражается не столько в невиданной ромбовидной форме книги, сколько в самом принципе построения повествования, предвосхитившим комедии-«убегалки» Бастера Китона, где тщедушный герой с невозмутимым видом куда-то проваливается, опрокидывается, взмывает, уносится… - и все это без малейшего вреда для здоровья, своего и окружающих.
Обратил я также внимание на эпизод, в котором малыш читает экстренный выпуск газеты, описывающий его собственное приключение. Сто лет назад это было гиперболой, а в наши дни, в эпоху инстаграма и т.д. это едва ли не обыденность.
Первым моим позывом было, естественно, купить необычную книгу и похвастаться ею перед московскими друзьями. Но, быстро убедившись, что оригинал ее все-таки американский, а не итальянский, от траты своих кровных €14 воздержался.
И правильно сделал. Потому что осенью того же года, разговорившись с директором издательства «Самокат» Ириной Балахоновой, обнаружил, что она тоже очарована этой книгой - правда, в голландском изводе. Мы оба сочли такое совпадение неслучайным, и я начал работать над переводом.
- Название книги вы перевели как «Книга с уклоном». Мне казалось, что «Косая книга» и точнее, и смешнее...
Действительно, буквально, по словарю, slant значит «наклонный» или «косой». Но мне кажется, «косая книга» уводит не в ту сторону - или «бухая книга», или «заячья книга». А «с уклоном» - лично у меня вызывает ассоциации с партийными «уклонами» 1910‒20-х годов. То есть куда ближе по времени и стилистике к оригиналу.
Мой литинститутский мастер Е.М. Солонович все время напоминал нам, что в переводе окончательных решений не бывает. Я выбрал такое решение - но никому не возбраняется перевести книгу 1910 года по-своему и издать, она давно в общественном достоянии.
Кстати, подзаголовок книги - «Дорога вверх тяжеловата, а вниз - быстрее самоката» - вам не кажется подозрительным? Правильно кажется: в оригинале там никакого самоката нет. Зато с логотипом издательства хорошо сочетается!
Когда вы взялись за перевод ньюэлловского хулиганства, вы ведь понимали, что книга выйдет как детская. Я говорю о современном смещении норм: старый добрый юмор многим родителям кажется и не смешным, и не добрым. На что надеялся переводчик? Не было бы лучше, например, старые добрые детские книги делать как взрослые? Для тех, кто понимает?
Я бы не сказал, что эта книга «старая добрая». Не Чарская же. В свое время это был острый авангард - настолько острый, что оказался «не по зубам» деятелям довоенного «ДЕТГИЗА». Да я и не уверен, что они знали об этой книге - слишком уж она опередила свое время, чтобы стать широко известной даже на родине.
Переводчик надеялся, что ему удастся сделать стихи достаточно «звонкими», чтобы они сами за себя говорили. При этом я ставил себе задачу написать так, как могли бы написать в те самые 20-е годы, когда книга теоретически могла быть издана тем же самым «ДЕТГИЗОМ» под руководством Маршака - чрезвычайно требовательного к себе и к другим в смысле версификации.
И что значит - «делать как взрослые»? Русское издание, как и все современные европейские издания, являет собой точную реплику оригинального издания 1910 года. Я знаю, что самокатовские технологи долго мучились, чтобы подобрать бумагу и добиться точной цветопередачи. Как ее позиционировать - это уже к маркетологам вопрос, а не к переводчику. Но, опять-таки, мы же с вами знаем, что детская книга - «товар двойного назначения»: часто под видом «куплю ребенку» молодые родители с удовольствием покупают книги себе. Собственно, только так и должно быть: чтение ребенку, чтение с ребенком должно быть удовольствием и для ребенка, и для родителя, а не каторгой, выполнением родительского долга. Производители полнометражных семейных мультиков это давно поняли, а издатели детских книг только-только начали понимать.
- «Книгу с уклоном» вы своим детям стали бы читать? Вообще, детям нужны все эти старые книги? Или опять же, вы это для себя?
Определение «все эти старые книги» к Ньюэллу не подходит. Он не «старый забытый автор», он пропущенный автор. Не было его по-русски! Теперь появился, и мы сможем решать - «нужен» он нам или «не нужен». Что касается моей собственной дочки, которой на период моей работы над книгой было от пяти до девяти лет, то она принимала в этой работе самое активное участие: я проверял на ней, достаточно ли «ровно» катится коляска. И она неплохо знает эту «книгу с уклоном».
Беседу вела Елена Соковеина
_______________________________________
Питер Ньюэлл
Книга с уклоном
Иллюстрации автора
Перевод с английского Михаила Визеля
Издательство Самокат, 2018
Родился в Москве, в том самом году, когда Леннон окончательно и бесповоротно доругался с Маккартни, и буквально в те самые дни, когда Пейдж с Плантом сидели в Брон-и-Аур Стомпе на травке (во всех смыслах) и подбирали хрусткие и гулкие звуки Gallows Pole и Friends. Впрочем, и том и о другом факте (которые, я уверен, оказали на мою жизнь гораздо большее воздействие, чем все гороскопы) мне стало известно гораздо позже - как и еще об одном важнейшем обстоятельстве, о котором будет сказано ниже.
С того достославного времени, не меняя физической оболочки, прожил несколько вполне несмешивающихся жизней.
Первая - студента заурядного технического вуза и примыкающая к ней - заурядного молодого инженера. Пять-шесть-семь лет (если считать от начала натаски в школе до увольнения по сокращению в маленькой инженерной фирме), засунутые псу под хвост. Я так и не смог научиться ни пить водку, ни трахать однопоточниц, нижé младшекурсниц. Единственное, что заслуживает удержания в памяти с того времени - посещение в качестве вольнослушателя лекций по музыке джазмена, неоязычника и христианина Олега Степурко и случайно прочитанный у одногруппницы томик Осипа Мандельштама. Юлия Евгеньевна Васильева, если Вам когда-нибудь попадется эта страничка на Ваши серые близорукие глаза - примите мой нижайший и смиреннейший поклон!
Маленький томик с первой ("Звук осторожный и глухой...") до последней страницы потряс настолько, что бывшая до того подспудной и подземной побочная жизнь вдруг как-то незаметно и естественно вышла наружу и положила начало второй жизни - поэта, студента Литературного института имени Горького. Тут-то и актуализировалось, что 20 июля - это день рождения не только мой, но и Франческо Петрарки . Я попал в переводческий семинар Евгения Михайловича Солоновича , о чём очень не жалею. В этой жизни было много смешного и несообразного (разговоры о Бертране Расселе и неизбежном Борхесе в институтской столовке, строящие ахматову интеллигентные домашние девочки, судорожное, до отвращения, запихивание в себя огромного количества книг, каждую из которых надо бы смаковать, преподавательница итальянского - моя ровесница), но, в отличие от предыдущей, она, без сомнения, была настоящей . Когда я, (поначалу - забывшись), произносил слова борхес, китс или фрипп , не все понимали, но вокруг не образовывалась полынья. Среди нас были парни от сохи и замороченные интеллигенты, тефлонно-чистые создания и тертые калачи обоего полу, полусумасшедшие и просто алкоголики, альтруисты и твердо положившие сшить себе из таланта кафтан (а так же притворяющиеся ими, будучи другими - но из того же списка), но что-то главное у нас было общее. А именно: убеждение, что сочинительство есть вещь самодостаточная или, говоря по-другому, в аксиологии не нуждающаяся. И кажется, мы оказались последние, у кого оно было, это убеждение. После нас пришли молодые люди, уже именно планомерно нацеленные на копирайтерство, боевики и глянцевые журналы, а не ставшие всем этим по необходимости.
Но и здесь одновременно мне пришлось вести параллельную жизнь. Не падайте в обморок: жизнь главного бухгалтера малого предприятия. Джекил с Хайдом отдыхают! Отдыхает и Олег Кулик со своим человекособачеством. Мои сидения и стояния в коридорах налоговых инспекций посреди толп разъяренных бухгалтерш в последний день сдачи квартального отчета с томиком Катулла в руках до сих пор вспоминаются с наслаждением, как непревзойденные по чистоте концептуальные жесты.
Однако и эта жизнь, в которой постепенно на первое место, обойдя отнимавшие много времени переводы стихов и катастрофически много денег - занятие фотографией , вышло писание статей и получение за них гонораров, канула в Лету, когда 20 июля (sic!) 1999 года подписанный на ezhe-лист приятель известил меня по аське между делом, что Антон Носик (с которым я тогда уже был шапочно знаком) набирает новых людей для расширения своей Gazetы.Ru (сейчас это уже требует уточнения - своей Gazetы, а слово Lenta.Ru тогда еще никому ни о чём не говорило). Мы встретились, поговорили (т.е. даже не поговорили, а просто Носик - сей муж, проникающий в суть вещей - на меня поглядел), и все заверте... Поначалу - безумно интересно, с перегрузками и заносами, потом - всё спокойнее и равномернее. Вертится, с некоторыми модификациями колеса, и поныне. Я состою редактором ленточного отдела культуры - т.е., попросту говоря, то, что висит по адресу lenta.ru/culture/ , в 90% процентах случаев изготовлено, сверстано и прилажено теми же руками, что и этот текст, пишу регулярно авторские, т.е. подписанные моей фамилией тексты (рецензии на спектакли, книги, фильмы) в дружественные сетевые издания, а то, что они не берут (не потому, замечу, что их не устраивает, а всегда только потому, что на эту тему материал уже есть) - нимало не чинясь, кладу на свою домашнюю страничку .
Есть и здесь своя боковая жизнь. А как же! Но писание ученой при таком раскладе не доставляет уже такого острого концептуального наслаждения, и потому идет скорее шатко, чем валко.
Долго ли продлится такая жизнь? Бог весть. Но уверен, что и она не является окончательной. Следите за рекламой.
26 ноября начинается ежегодный пир духа - ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction в ЦДХ, на которую пора бы перестать пускать тех, кто так и не удосужился прочитать книжки, купленные на этой ярмарке год назад. The Village решил узнать у книжного обозревателя, переводчика и ведущего курсов писательского мастерства Михаила Визеля, что точно стоит покупать в этом сезоне, кому верить, выбирая книгу, куда двигается современная российская проза, как случился бум скандинавского детектива и почему творчество Джоан Роулинг - это реализм.
Про новинки non/fiction
- Расскажите, пожалуйста, про non/fiction. Что в этом году будет интересного, на что нам всем надо обратить внимание?
Начать надо с того, что non/fiction начиналась шестнадцать лет назад практически в пустыне. Но и сейчас по-прежнему остаётся неотъемлемой частью московского и даже российского культурного пейзажа, по крайней мере в том, что касается книг. В этом году, насколько я знаю, в связи с резким похолоданием международной обстановки (как бы это кондово ни звучало) слетели почётные гости - австрийцы. Год немецкого языка, а австрийцы слетели.
- Сами отказались?
Не знаю, как это было оформлено, но слетели. Также сменились кураторы детской программы. Кураторы действуют в узком поле возможностей. ЦДХ - это большая и консервативная структура, и то, что предлагают и детские, и взрослые кураторы, не всегда вписывается в этот коридор возможностей. Но несмотря на это, нас, как обычно, ждут зарубежные литературные звёзды и насыщенные разговоры о книгах, а маленькие издательства смогут продать на non/fiction половину или даже две трети своего тиража. Это, конечно, хорошо для ярмарки, но довольно красноречиво описывает ситуацию с маленькими издательствами в России.
- На что обратить внимание?
Новинка этого сезона - «Обитель» Захара Прилепина, которая вышла ещё летом, хорошо продаётся и уже в списке бестселлеров магазина «Москва». Сейчас Захар вовсю активничает на Донбассе, и это вызывает неоднозначную реакцию, но подстёгивает интерес к его книге. Я немного знаком с Захаром и могу себе представить, что для него это не пиар, а искренние убеждения. И «Обитель», и «Теллурия» Сорокина попали в короткий список премии «Большая книга». «Теллурия» тоже, видимо, будет продолжать набирать популярность, потому что второго или третьего текста такого размера, объёма и масштаба, созданного современным русским писателем, я не припомню. Третья важная книга - это роман «Возвращение в Египет» Владимира Шарова. Я рекомендую читателям The Village прочитать его роман «Репетиции» 1989 года. После выхода «Дня опричника» стали говорить, что мы живём в парадигме, описанной в этой книге, что, к сожалению, правда, но в ещё большей степени мы живём в парадигме, описанной в романе «Репетиции». Из зарубежных писателей наибольший ажиотаж сложился вокруг нового, прошлогоднего романа американки Донны Тартт «Щегол», собравшего уже ворох наград в англоязычном мире. Это масштабная книга, оперативно переведённая и выпущенная издательством Corpus. Как и все большие книги, она «обо всём»: о современном терроризме, о старинной живописи и о впечатлительных юношах. Кроме этого, все крупные издательства подготовили свежий набор англоязычных бестселлеров, включая новый детектив Джоан Роулинг, написанный под псевдонимом Гэлбрейт. Сам я жду с бо́льшим интересом возможности полистать на стенде издательства Ad Marginem дилогию итальянца Курцио Малапарте «Капут» и «Шкура».
Это два огромных романа о Второй мировой войне, вызвавших противоречивое отношение, вплоть до включения в ватиканский Index Librorum Prohibitorum. А также - ещё одну пропущенную классику, огромный роман венгра Петера Надаша «Книга воспоминаний» 1986 года, который когда-то высоко оценила правдорубивая Сьюзен Зонтаг. Ещё я уверен, что на non/fiction нас ждёт море книг, связанных с историей и политикой: про Первую мировую войну (в том числе очень хороший роман британца Себастьяна Фолкса «И пели птицы»), и про Крым, и про Донбасс.
Тенденция,
которую
я вижу в российской прозе, - возвращение соцреализма
По личным причинам я с нетерпением жду приезда автора, которого переводил, - венецианца Альберто Тозо Феи. В 2000 году я купил в Венеции его путеводитель по мифам и легендам Венеции - и вот мы с «ОГИ» наконец представляем его на русском языке. Ещё упомяну «Магическую Прагу» Анджело Мария Рипеллино. Это классическая и фундаментальная книга о големе, диббуке, императоре Рудольфе, которая шла к русскому читателю пятьдесят лет - я просто восхищаюсь Ольгой Васильевной, доведшей эту сложную историю до конца. Если вам интересна тема городских легенд и урбанистики, рекомендую обратить внимание на книгу американца Майкла Соркина, который каждый день ходит пешком на работу из Гринвич-Виллидж в Трайбек и размышляет об урбанистике Нью-Йорка.
- А что-то важное из мемуаристики?
- «Альпина Паблишер» выпустила «Жизнь и житие Данилы Зайцева», мемуары русского старообрядца, который родился в 1950-е в Харбине, а оттуда перекочевал в Аргентину. Его семья пыталась вернуться в Сибирь, но у них ничего не вышло, и он, что называется, насилу ноги унёс обратно в Аргентину. Вторая - очень интересная книга Людмилы Улицкой «Поэтка» о её близкой подруге Наталье Горбаневской. И третья мемуарно-биографическая книга - «Баронесса» Ханны Ротшильд, представительницы младшего поколения Ротшильдов, которая написала о своей двоюродной бабушке-бунтарке, порвавшей с мужем-бароном, бросившей пятерых детей во Франции и уехавшей в пятидесятые в Нью-Йорк тусоваться с джазменами Чарли Паркером и Телониусом Монком. И четвёртый важный нон-фикшен - это выпущенная Ad Marginem книга «Долг: первые 5 000 лет истории». Её автор Дэвид Гербер - антрополог, профессор Лондонской школы экономики и при этом - один из антилидеров движения Occupy Wall Street.

- А что с нашими учёными? Есть какие-то интересные научно-популярные книжки?
Из гуманитарных - «Мы живём в Древнем Риме» Виктора Сонькина, детское продолжение его позапрошлогодней книги «Здесь был Рим». Она вышла в детском издательстве «Пешком в историю», но, я уверен, родители тоже с интересом её прочитают. Из естественно-научного с удовольствием напомню про замечательную книгу Аси Казанцевой «Кто бы мог подумать» про людей и про их вредные привычки, про то, почему многие не могут бросить курить, почему осенью хочется спать, почему люди ведут себя так глупо в вопросах размножения. Она вышла в начале этого года, но только что получила премию «Просветитель», с чем я автора от всей души поздравляю. Ещё совершенно безумная книжка Дмитрия Бавильского - «До востребования. Беседы с современными композиторами». Дмитрий Бавильский - литератор, а не музыковед, и он сделал очень прочувственные интервью с десятком людей, которые занимаются академической музыкой. Эта книга недавно получила питерскую премию Андрея Белого, призовой фонд которой составляют одно яблоко, один рубль и бутылка водки.
Про новый соцреализм
- Раз уж мы начали говорить про премии, давайте посмотрим на тенденции: кому в этом году дали «Национальный бестселлер» и «Большую книгу».
Питерский автор Ксения Букша в этом году получила «Нацбест» за книгу «Завод Свобода», она же вошла и в короткий список «Большой книги». Это было полной неожиданностью. Это очень интересная книга, современный производственный роман, хотя сама Ксения категорически против такого определения.
- Что вообще с литературой происходит? Что люди сегодня пишут, и за что их награждают?
Я могу отметить две тенденции: первая - это размывание границ между визуальным и текстуальным. Этой осенью вышло несколько графических романов, которые уже язык не повернётся назвать комиксом, затрагивающие большие, важные проблемы. Например, «Фотограф» Гибера, Лефевра и Лемерсье - история француза, перебирающегося в восьмидесятые годы из Пакистана в «душманский» Афганистан. Или «Логикомикс» Доксиадиса и Пападимитриу - биография Бертрана Рассела, с участием Людвига Витгенштейна, Курта Гёделя. Это тома под пятьсот страниц и под тысячу рублей. Или книги потоньше, затрагивающие большие, важные, ничуть не «комиксовые» проблемы, например «Мария и я» Мигеля Гаярдо о девочке-аутисте. Нам пока рано об этом говорить, но в Италии графический роман впервые вошёл в этом году в короткий список престижной премии «Стрега». Вторая тенденция - размывание границ между фикшен и нон-фикшен. Оно происходит не потому, что людей перестали интересовать большие повествования, а потому, что мир стал более документированным. Всякая неожиданная подробность, неожиданная деталь сразу же становится известной, Голливуд покупает права на экранизацию «реальной истории», и тут же пишется книга. Может быть, вы помните фильм «127 часов» об альпинисте Ароне Ралстоне, который отпилил себе руку в каньоне, чтобы освободиться. Казалось бы, дикая история. В прошлом веке такую душераздирающую историю сочли бы выдумкой дурного романиста, но это истинная правда, можно предъявить и руку, и живого человека. Литература возвращается в своё состояние времён Гильгамеша и Гомера: деяния славных мужей становятся литературой, минуя стадию выдумки писателя.
- То есть художественная обработка уже не так важна, как история?
Она важна именно как обработка уже существующей истории. Хотя чего-то совсем нового здесь нет. Лев Толстой, когда писал «Войну и мир», тоже пользовался историей своей семьи, прототипом Ильи Ростова был его дед. То есть проникновение нон-фикшен в фикшен - это не чей-то злой умысел, это естественный процесс. Тенденция, которую я вижу в российской прозе, - возвращение соцреализма. Когда я смотрел короткий список «Большой книги», я обнаружил в нём книгу писателя Виктора Ремизова из Хабаровска - «Воля вольная» о браконьерском промысле красной рыбы, о парне-правдорубе, который борется с коррумпированными милиционерами. И это абсолютный кондовейший соцреализм, только вместо «газиков» - «крузаки». И словно в противовес ему - «Пароход в Аргентину» Алексея Макушинского, столь же незамутнённый образчик непримиримого - стилистически и идеологически - семидесятнического «эмигрэ», только почему-то тоже датированный 2014 годом.
- Это возвращение литературы в золотые советские годы или использование технических приёмов соцреализма на сегодняшнем материале?
Трудно сказать, но мне кажется, что наша общественная жизнь теряет пластичность и снова обретает некоторую жёсткость, что отражается на востребованности тех или иных приёмов и форм литературы.

Про уходящий детектив
- У нас возрождение соцреализма, понятно. А что с зарубежной литературой? Сейчас вышла «Исчезнувшая» по книге Гиллиан Флинн, от которой все в восторге, хотя книга так себе. Я посмотрела список бестселлеров New York Times, и там практически одни детективы: кого-то убили, кто-то пропал, кто-то кого-то ищет. Что происходит в Америке и в Европе?
Я не могу говорить про всю зарубежную литературу, но внимательно слежу за итальянской и англоязычной. Если говорить общо, то я не могу согласиться, что идёт нашествие детективов. Скорее после Умберто Эко детективная пружина стала общепризнанным приёмом, уместным в любой книге. Раньше убийство, похищение, какая-то кража считались элементом низкого жанра, беллетристики. Но мне кажется, что детектив - уже ушедшая тенденция, а ключевой становится история, написанная на основе реальных событий. Например, книга «Три чашки чая» американского альпиниста Грега Мортенсона о том, как он строил школы для девочек в Афганистане, - на протяжении нескольких лет в бестселлерах. Ещё, если продолжать говорить о тенденциях, богатство англоязычной литературы прирастает национальными колониями и бывшими окраинами.
- Это вы имеете в виду, что Букеровскую премию в этом году дали австралийцу, да и вообще с этого года решили давать не по национальному признаку, а всем, кто издаётся в Великобритании?
Не только. Вы посмотрите, по-английски пишут абсолютно все: суринамцы, гаитянцы, индусы, бангладешцы. Я говорю это не с осуждением, а с восхищением, потому что в литературу постоянно вливается свежая кровь. Это мультикультурность в своём лучшем проявлении. Кроме Салмана Рушди, про которого мы все знаем, есть ещё Джумпа Лахири, писательница бенгальского происхождения, выросшая в Америке и получившая Пулитцеровскую премию. Ещё можно вспомнить Халеда Хоссейни, афганца, написавшего «Бегущий за ветром». Ну и Михаила Идова, между прочим. «Кофемолка» была написана по-английски для жителей Гринвич-Виллиджа. Про него и про его сверстника Гари Штейнгарта (родившегося в Ленинграде) сами американцы на полном серьёзе говорят, что они привнесли в американскую литературу «русскую ноту». Нам немного смешно, но для американской литературы это в порядке вещей.
- Кого из англоязычных писателей можно назвать настоящими классиками?
- Кто ещё, Пратчетт?
Пратчетт более жанровый. Ещё американцы носятся с Джонатаном Франзеном, называют его «нынешним великим писателем». Его роман «Поправки» 2001 года действительно очень хороший. Он поступил в продажу 11 сентября 2001 года, что сказалось на его продажах не лучшим образом. Но я прочитал его пару лет спустя по-русски и благодаря ему понял, почему стало неизбежным 11 сентября, хотя там нет ни слова про фундаментализм или терроризм. Это история большой американской семьи, в которой распадаются связи поколений из-за того, что технологический процесс начинает опережать срок жизни одного поколения.
- Правильно ли я понимаю, что идёт установка на реализм, а фанзины, «Сумерки», Гарри Поттер и вампиры уходят в прошлое?
Гарри Поттер - это и есть реализм. Я вычитал у Умберто Эко очень развеселившую меня мысль, что современный мир гораздо более магичен, чем пятьдесят лет назад. Современный ребёнок, привыкший к телевизионному пульту, Хbox, сенсорным экранам, не находит в существовании волшебных палочек ничего удивительного.

Про вечный литературный кризис
- Что происходит с российским книгоизданием? Маленькие издательства умирают или выживают?
Конечно, все в панике, в ужасе. Но, как остроумно заметил Дмитрий Быков, получая «Большую книгу» за ЖЗЛ Пастернака, «русская литература всегда в кризисе, это её нормальное состояние, она только в этом состоянии и может существовать». Такое падение в бездну. Как повелось со времён Достоевского, так оно до сих пор и продолжается.
- В каком мы сейчас месте этой бездны?
Поскольку эта бездна бесконечна, невозможно говорить о нашем в ней месте. Но мы сейчас переживаем ещё более колоссальный, тектонический сдвиг: переход от галактики Гутенберга во вселенную Стива Джобса, к электронному книгоизданию, которое происходит на наших глазах и при нашем участии.
- Россия не так технически оснащена, чтобы все вдруг перестали покупать бумажные книги и перешли на электронные.
Это совершенно неизбежно. Я рассказал вам про хабаровского автора, который нам изначально интересен. Это дикая, неправильная ситуация, когда 90 % сочиняющих людей живут в Москве и в Петербурге. Из известных писателей лишь несколько из регионов: екатеринбуржец Алексей Иванов, Захар Прилепин и детективщик Николай Свечин - оба из Нижнего Новгорода, Олег Зайончковский из Коломны. Плюс Дина Рубина в Израиле и осевшая в Вильнюсе Светлана Мартынчик (Макс Фрай). Наша география открывает широчайшее поле для электронного книгоиздания, потому что книге, чей бумажный тираж пришёл на склад в Хабаровске, объективно сложно добраться до Москвы. В будущем бумажное книгоиздание займёт ту нишу, которую сейчас занимает в музыке винил. У человека будет, например, тысяча томов на электронных читалках и десяток томов на полке, которые он любит время от времени перелистывать.
Про живых классиков
- Как я понимаю, писательством в России жить до сих пор нельзя?
В России есть пять-шесть человек, которые живут писательством, с учётом продажи прав на экранизации и гонораров за колумнистику. Ну может быть, десяток. Для остальных с экономической точки зрения это отхожий промысел от основного производства. От сериальной сценаристики, например, или от пиара. Но я думаю, что это достаточно универсальная история, просто в той же Америке эта ситуация более отработана, и писателям дают возможность жить в университетских кампусах, вести курсы creative writing, получать негосударственные гранты.
- А что с издателями?
Во-первых, все уповают на «эффект длинного хвоста», это термин маркетологов: 90 % людей пьют кока-колу, а 10 %, что ты ни делай, эту кока-колу в рот не возьмут. И вот из этих 10 % можно сделать свою аудиторию.
- Вы верите, что ещё возможно в России написать супербестселлер, который будет интересен всем?
С одной стороны, слава богу, что времена, когда все читали одну книгу, кончились и не вернулись. Невозможно себе представить, чтобы два человека одного круга, встретившись, говорили вместо приветствия «Уже читал?» - «Читал». Но, будучи человеком уже достаточно взрослым, я понимаю, что объединяться вокруг одной книги правильнее и нравственнее, чем объединяться вокруг политических мемов вроде «Крым наш». Так что мне хотелось бы, чтобы такая книга появилась. Но вообще функцию книги, которую читают все, должна выполнять классика - то, что человек читает в школе.
- А что из современной российской литературы вы бы назвали классикой?
Если говорить о современной классике именно в значении must-read, то это, пожалуй, Generation P и «Чапаев и пустота» Пелевина. При всей своей колючей форме, постмодернистской иронии, это книжки важные и многое до сих пор объясняющие в нашей жизни. Сейчас стремительно из авангардистов в классики вышел Владимир Сорокин. И, наверное, ещё Михаил Шишкин и Владимир Шаров. Юрий Мамлеев - здравствующий классик-аутсайдер вроде Кафки. Ну и, конечно, я не могу не упомянуть Андрея Битова и Фазиля Искандера. Но они уже как бы не совсем с нами, а скорее где-то с Тургеневым и Буниным.
Фотографии: Вика Богородская